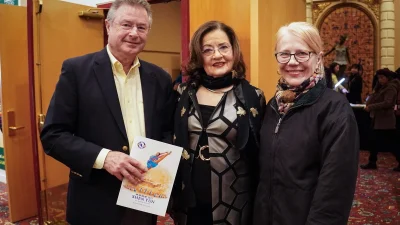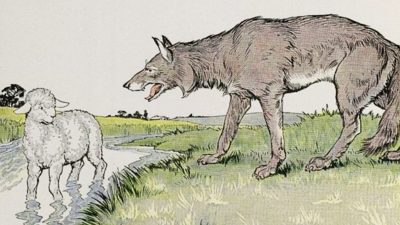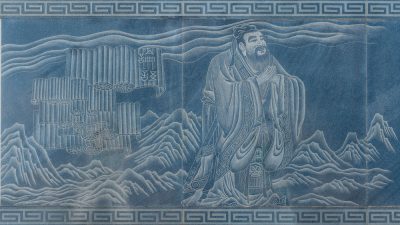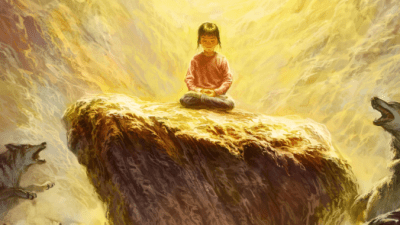Каждая картина, вдохновлённая литературой, интерпретирует видение автора, добавляя глубину его произведению, и в то же время становится новым видением — новым произведением искусства.
Исследование этого художественного диалога доставляет огромное наслаждение как литературным критикам, так и искусствоведам. В гармоничном взаимодействии живопись проливает свет на поэзию, а поэзия — на живопись.
«Пейзаж с падением Икара» Питера Брейгеля Старшего (1560)
Подобно стволу дерева, эта картина голландского мастера Питера Брейгеля Старшего выросла из литературного сюжета и стала основой для более поздних художественных произведений. На ней Брейгель изобразил сцену из греческого мифа об Икаре и Дедале.

В мифе критский царь Минос нанимает изобретателя Дедала, чтобы тот построил сложный лабиринт, из которого невозможно выбраться, и использовать его в качестве тюрьмы для чудовища Минотавра. Но после того, как Дедал выполняет свою задачу, царь Минос не позволяет ему и его сыну Икару вернуться домой. Минос запирает их в башне.
Находчивый Дедал создаёт две пары крыльев из перьев и воска, чтобы он и его сын могли сбежать. Но Икар, игнорируя предупреждения отца, летит слишком близко к солнцу. Воск тает, перья отпадают, Икар падает в океан и гибнет.
Брейгель сделал интересный ход. Он изобразил Икара и его падение в океан на заднем плане и настолько маленьким, что зритель даже не заметил бы две маленькие ножки, исчезающие в тёмно-зелёном море. В центре картины Брейгеля — большой величественный корабль, отплывающий в море, и пахарь на поле на переднем плане.
Знаменитая картина вдохновила поэта-модерниста У. Х. Одена на создание знаменитого стихотворения. В нём Оден размышляет о том, что большинство персонажей на картине Брейгеля не подозревают о трагедии Икара:
В «Икаре» Брейгеля, в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь — словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей, —
Под солнцем белели ноги, уходя в зелёное лоно
Воды, а изящный корабль, с которого не могли
Не видеть, как мальчик падает с небосклона,
Был занят плаваньем,
всё дальше уплывал от земли…
Так великое искусство порождает великое искусство в непрерывном цикле.
«Андромаха, оплакивающая Гектора» Жака-Луи Давида (1783)
Читатели «Илиады» знакомы с одной из её самых великолепных и трогательных историй — отношениями между троянским героем Гектором и его любящей женой Андромахой. Гектор — принц Трои, который возглавляет оборону города против осаждающих греков. Его лидерские качества, мужество и боевое мастерство являются источником, поддерживающим безопасность города. При этом он внимательный отец и муж.
Одна из самых трогательных сцен поэмы происходит, когда Гектор возвращается в город после битвы, чтобы навестить свою Андромаху и их сына Астианакса. Он нежно играет с мальчиком и утешает свою жену, которая умоляет его не возвращаться на войну. Несмотря на её протесты, Гектор возвращается в битву, в основном для того, чтобы уберечь жену.
Однако он терпит неудачу, повергнутый в прах могучей рукой Ахилла. Картина Давида изображает Андромаху и Астианакса, скорбящих перед телом Гектора.
Давид изобразил эту сцену с таким техническим мастерством и драматическим пафосом, что картина принесла ему избрание в Королевскую академию в 1784 году.

В интерпретации Давида свет падает на безутешную Андромаху. Она поднимает глаза вверх и отводит их от тела Гектора, наполовину затемнённое. Тьма, словно тень самой смерти, надвигается с левого края картины.
«Сцена банкета в пьесе Шекспира „Макбет“» Дэниела Маклиса (1840)
Эта мощная картина Дэниела Маклиса захватывает дух зрителей реалистичным использованием света и тени, тревожной атмосферой и драматическими позами.
Она изображает момент из пьесы Шекспира «Макбет», когда главный герой видит призрак своего убитого друга и бывшего соратника Банко. Жертва сидит на троне Макбета во время пира, устроенного королём для своих вассалов. Банко стал побочной жертвой кошмарного падения Макбета в ревность, паранойю и жестокость. Макбет смотрит на призрачное видение в шоке и ужасе.
Его жена, леди Макбет, пытается объяснить его странное поведение сбитым с толку гостям, которые не могут видеть призрака.

Струящиеся языки пламени из люстры, широкий взмах руки леди Макбет и отшатывающаяся фигура Макбета, контрастирующая с тёмным силуэтом призрака, — картина обладает мощной, слегка неистовой энергией. Она показывает падение Макбета в состояние, близкое к безумию, когда он начинает терять контроль над ситуацией.
Тёмные тени по краям композиции отражают тьму, колдовство и зло, окружающие Макбета в этой самой мрачной из трагедий Шекспира. Фигура леди Макбет является доминирующей и наиболее ярко освещённой на картине, что, несомненно, отражает её значительное влияние на мужа и жуткие события пьесы.
«Офелия» сэра Джона Эверетта Милле (1851)
Произведения Шекспира очень популярны среди художников, и здесь мы видим ещё одну сцену из трагедии Шекспира, на этот раз написанную сэром Джоном Эвереттом Милле. Художник пронзительно изобразил последние минуты Офелии из «Гамлета».
Офелия — возлюбленная Гамлета. Она впадает в безумие после того, как Гамлет, скорбя о смерти своего отца, короля Дании, начинает вести себя неадекватно и случайно убивает её отца, Полония. После этой трагедии девушка блуждает бездумно по лесу, напевая странные песни, и тонет в ручье.

Милле изобразил Офелию в момент, когда она погружается в воду с полуоткрытыми губами, как будто она поёт, её одежда и волосы расплываются по воде, а в руках она держит несколько поникших цветов. Насыщенные цвета и необычная, похожая на статую, поза полузатонувшей девушки приковывают взгляд.
«Даже в смерти она обладает изяществом и безмятежностью, её руки нежно подняты, как будто она приняла свой конец», — написала Джени Слабберт для журнала The Collector.
Действительно, раскрытые объятия Офелии намекают на то, что она готова принять то, что её ждёт: смерть.
«Леди из Шалот» Джона Уильяма Уотерхауса (1888)
На этой картине Джон Уильям Уотерхаус изобразил сцену из поэмы его современника, великого поэта Альфреда, лорда Теннисона. Теннисон был очень вдохновлён легендами о короле Артуре, что является ещё одним примером того, как искусство порождает искусство. Он написал ряд пересказов этих легенд в стихах, в том числе сборник «Идиллий короля».
Поэма «Волшебница Шалот» рассказывает о даме, живущей в башне у реки, текущей в Камелот, рыцарский замок короля Артура. Она стала жертвой проклятия, запрещающего ей смотреть прямо на мир. Если она это сделает, то умрёт. Она может видеть внешний мир только в зеркале. Она ткёт гобелены из того, что видит. Однако Леди Шалот решает нарушить правило. Покинув башню, она находит лодку и плывёт по реке в Камелот, но умирает, не доплыв до места.

Одна из самых известных картин Уотерхауса, «Леди из Шалот», изображает героиню поэмы в лодке, плывущую по реке навстречу своей смерти. Картина примечательна сочетанием фотореалистичности и мистической, фантастической атмосферы. Благодаря богатой детализации и цветовой гамме Уотерхаус сумел ярко воплотить на холсте момент, предшествующий смерти.
Зрители могут прочитать по лицу дамы осознание ею приближающейся смерти: её печаль, утомление и страх. Она сидит прямо, одна рука слегка вытянута, взгляд устремлён вперёд, как будто она решила впитать в себя как можно больше мира, прежде чем он ускользнёт из её рук.
Подобно леди Шалот, которая видит мир в зеркале, великие художники, представленные в этой статье, видели мир, отражённый в мифах, стихах и рассказах, которые они иллюстрировали. Их произведения становятся своего рода двойным отражением реальности, поскольку литература и искусство, как линзы, установленные одна за другой в телескопе.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram