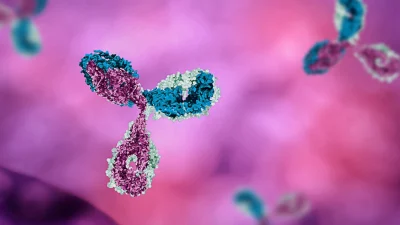Стихи Михаила Зива. Поэты по субботам

Поэт Михаил Зив. Фото: Хава Тор/Великая Эпоха (The Epoch Times)
Дождь в Тель-Авиве
Вечность кажется нетленной,
Показалась жизнь согбенной
И умышленнее мощь,
Где в сенях чужой вселенной
В ночь карабкается дождь.
Сыплет молнии наружу.
Город вскакивает в лужу,
Стены горбятся в холмах,
И прищурившийся ужин
Помирает на столах.
Едоки от счастья сыты,
Держат хлеба монолиты,
Воздух вилками скребут.
Крыш натолкнуты корыта,
И посыпано минут.
Но минута — тоже дата
Дня рождения, где атом
Новоро́жденно болит.
Жизнь согбенная крылата.
Скатерть складки шевелит.
И наделано вселенных,
Словно ужинов нетленных,
В каждом скачущем окне,
Где отважный соискатель
Смысла в бездне поколенной,
Ухватившийся за скатерть,
С миром движется вовне.
Ночной Псагот
Тихонечко, как я не знаю что,
Тропа с горы спускается сторожко,
Цепляя куст, где пыльно пролито
Окна пятно, — специально не прольешь так.
Ночные горы сыплют тихий вздор —
Их больше всех на солнце днем нагрели —
И тыкаются к небу в коридор —
Попить пространств от каменной мигрени.
Ни ветерка. Военный пост. Фонарь
Слезится, словно цитруса кожурка.
Ни ветерка, а дышит снизу гарь.
Солдат сидит над книгою в дежурке.
Бормочет телевизор из кустов.
Тропа опять спускается куда-то.
А кто, скажите, к вечности готов,
Летящей за спиною у солдата?
Или хотя бы — к тьме при фонаре,
К пустым задворкам, спящей детворе,
Или к ночной горе шероховатой? —
С солдатской тенью в этом ноябре.
День встает, а пляж ложится,
Внятней города вранье,
И летит над морем птица,
Говорит: «А я не птица,
Только зренья острие».
Я и сам от жизни слепну,
Не рисую этих мест,
Что, посыпанные пеплом
Дней в аду великолепном, —
Только тесто на замес.
Так же лепится и слово,
С тем же носится и кровь,
Лишь почудится основа –
Тут же олово готово:
Ленты, кружево, любовь,
Вечный труд и отдых тяжкий,
Быстрый берег набекрень,
Весь в кудряшках раскардашных,
Весь в одышках карандашных,
Описавших дребедень
Пальм, бегущих знаться к зданьям
В поднебесном Спортлото
В тапках с лапотным топтаньем,
В точках с лепетным братаньем,
С карандашным потаканьем,
С точным тыканьем в ничто.
*** Это море тяжелое говорит…
Это море тяжелое говорит, что оно тут мед,
Поднимая тот мед до дрожащего рта звезды. —
Это кто же язык волны переведет, поймет,
Темнотой за собой смывая навек следы?
Ну и что, что не будет слышно тебя — и что?
Это как же оставишь привкус во рту — и с кем?
Это — словно в метро улетает твое пальто?
Или это звезда зазывает тебя рискнуть?
Только в силу каких-то непререкаемых схем
Создается барашковый ритм, раздражая мрак.
Или голос планеты приближен прямо к виску,
И вдыхаешь объем вселенной размером в шаг.
Или это сквозняк, что уксус, входит в твое нутро.
Или это звезда осыпает щебет, который знак.
Или это пальто догоняет тебя в метро.
Или это вблизи виска прополз фонаря слизняк.
Так ведь привкус от уксуса загодя был в меду
Там, где куцая даль утопила локти в воде,
И заранее выдох нашарил во рту: «Дойду!»,
Ибо мы родились априори навек везде.
Душу смиреньем одел…
Душу смиреньем одел и на улицу вышел.
Голос взъерошенный выплюнул вон изо рта.
Дождик скакал, состоящий из косточек вишен. –
Кислой слюной увлажнялась в толпе темнота.
Наше снование в давке – лишь тела хованье
В ябеды курток чужих, в окликанья безадресных фраз,
Словно купание эха, утопшего в бережной ванне,
В неком блаженном тепле, отпечатавшем беглое с нас.
Ветер нас вытер, и ходит зашкаливший витязь
В мутной толпе, поисковой обидой обвит.
Только смиришься, как в губы влетит: «Отзовитесь!»
Все так и ходят, раз адреса нет у любви.
Наше смиренье безадресно и неконкретно.
У письмоносца труднейшая должность весьма.
Дождик идет и каракули слижет с конверта,
И адресатам никак не дождаться письма.
***Идожиля
И дожил я до пасмурных седин,
Своей судьбы не очень господин,
Сознания неловкий исполнитель,
Среди калмыков — некий кабардин, —
Тунгусы, вы меня не извините ль?
А что я был, и что я в пищу брал,
Коль в ужасе средь клеточных мембран
Я калий пил и грыз подсобный кальций,
И в брак вступал, и, склонный к тем добрам,
Усаживался в должность постояльца?
И темен был, хотя в просвете рус,
И храбрым был, когда я не был трус,
И щедрым был, вербуясь в ставке жадин,
Накладен всем, я жизнь мотал на ус,
Когда не брился. — Да, я был всеяден!
И умер я ни за что, ни про что,
В холодную улегся без пальто —
Не Родину, а вечности предбанник, —
Просеянный как бы сквозь решето
На небо, но вне жен уже и нянек.
И умер я. Когда б не умер я
Среди разлук, любовей и вранья
И прочей зряшной радости на свете,
О, как бы я чужим вошел в братья?
И как достиг бы совершеннолетья?
Поддержите нас!
Каждый день наш проект старается радовать вас качественным и интересным контентом. Поддержите нас любой суммой денег удобным вам способом!
Поддержать